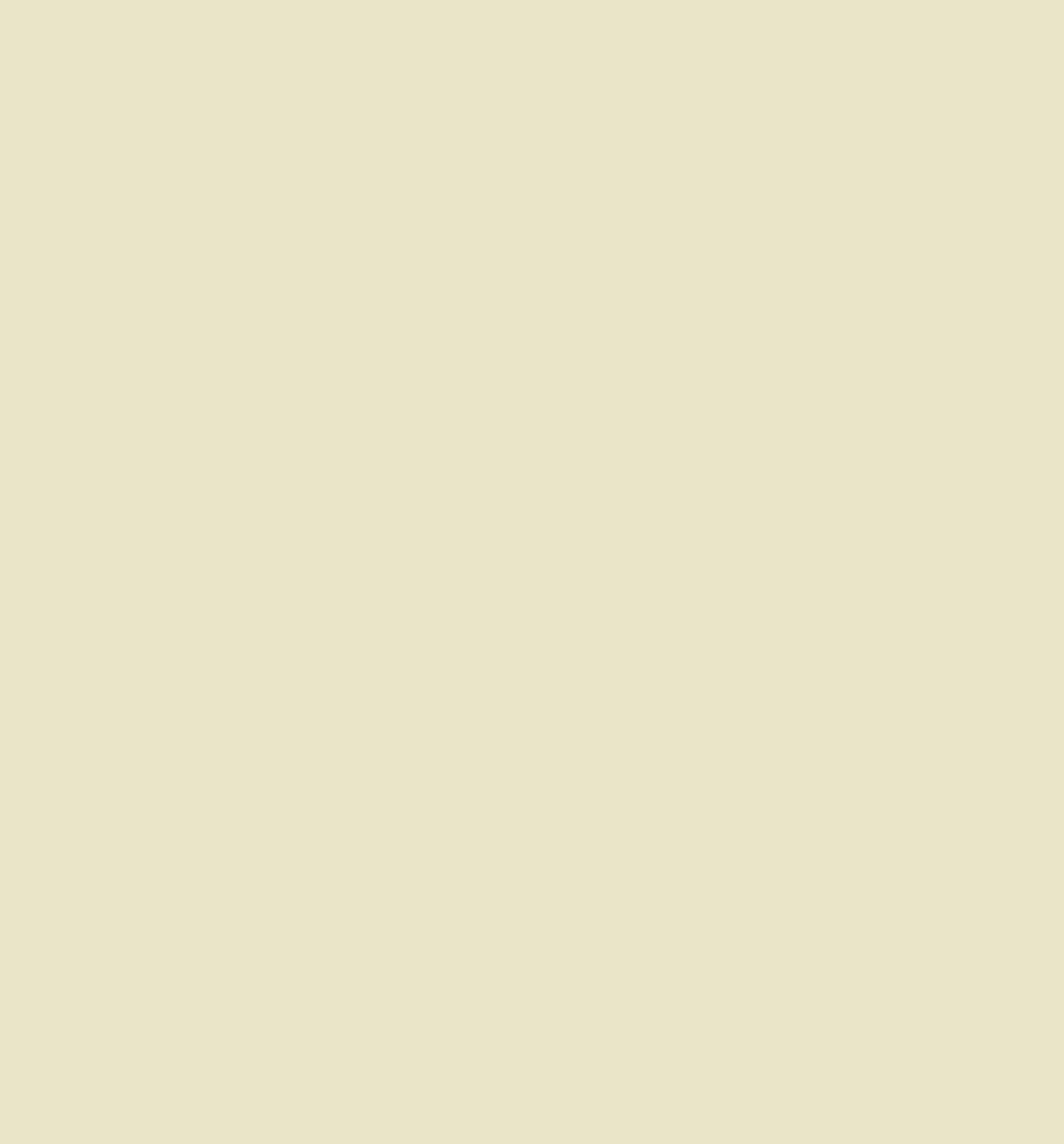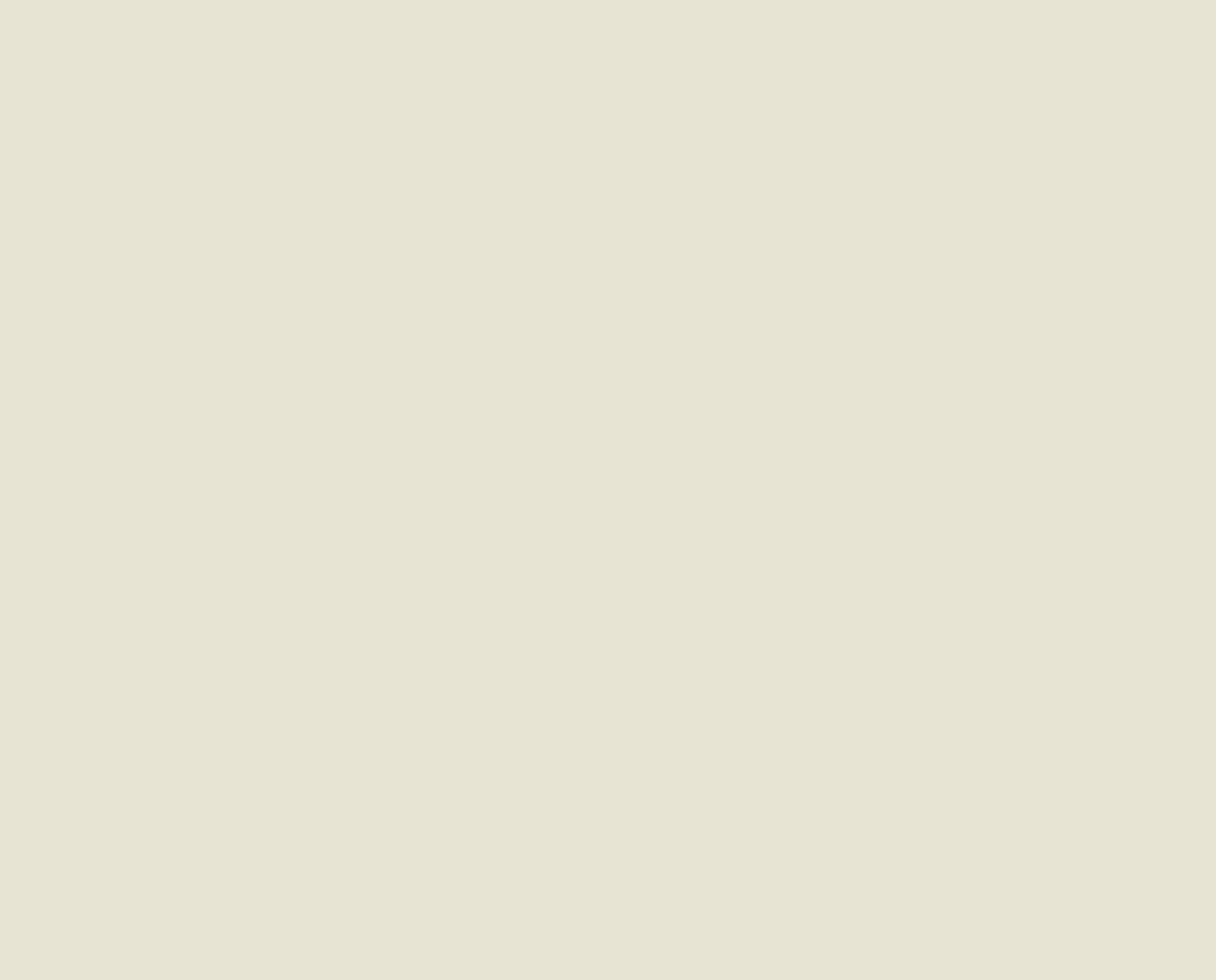Юрий Норштейн: «Ежик похож на рублевского «Спаса»
«Юрий Борисович, я подошел только спасибо сказать», «Это вы?! А можно с вами сфотографироваться!», «Я выросла на ваших мультфильмах, спасибо вам большое!» — эти и другие реплики то и дело прерывали интервью с Юрием Норштейном на Книжной ярмарке. Взрослые и дети подходили за автографом, просили сфотографироваться, пожать руку, поговорить. Уставший автор «Ежика в тумане» и «Сказки сказок» старался быть внимательным ко всем. С Юрием Норштейном побеседовала Раиса Ханукаева.
— Мы все росли на «Ежике в тумане». Кажется, мы знаем о нем всё. Расскажите про «Ежика» какую-нибудь тайну? То, что никому еще не говорили.
— Когда мы рисовали Ежика, мы смотрели на «Спаса» Андрея Рублева. Помните эту икону? Должно было быть ощущение всемирности героя. Его взгляд, движения, все прочее. Я помню, когда мы снимали сцену его встречи с Медвежонком, подошел мой коллега и товарищ Николай Серебряков, посмотрел на него и сказал: «Божий человек».
— Так вот почему пропало доброе детское кино, которым славился Советский Союз? Нет «всемирности»?
— Да есть они, детские фильмы, но они на таком примитивном уровне, что даже названия не запоминаются. Это кино сейчас настолько элементарно, оно не является простым, оно является примитивным. Думаю, что у авторов нет пространства, нет времени на то, чтобы посидеть и подумать. Раньше на это время было. Даже когда фильм был совсем на начальной стадии, тебе давали возможность попробовать. Написать сценарий, например, попробовать сделать черновой мультипликат, еще до того, как проект был запущен в производство. Такие вещи были, но сегодня об этом даже мечтать нельзя, ничего этого нет.
— Может, люди стали менее духовными? В основном молодежь смотрит не на кружащуюся багряную осеннюю листву, а в планшеты…
— Я, например, обожал смотреть на старую обвалившуюся штукатурку. На абстракцию, которую образуют эти трещинки. Иногда просто стоял у дома и смотрел. Мимо проходили соседи, спрашивали: «Юрочка, ты чего там увидел?» — я показывал место, где текла ржавая вода, например. Думаю, они считали меня странным. Уже через много лет в одном из фильмов о себе я подробно рассказал о каких-то деталях нашего двора, мне позвонила моя подруга, жившая со мной в этом дворе, и сказала, что они с остальными ребятами обсуждали этот фильм и то, что я рассказал. Кто-то удивился, почему не заметил того, о чем говорю я, на что Дарья, моя подруга, ответила: «Потому что он художник».
Художественная школа, в которой учился Ю. Норштейн
— В эпоху цифры и компьютеров возможно возвращение к авторской анимации?
— Сейчас такое время, что многие прикрывают свою бездарность понятием авторской анимации. Ей часто спекулируют, пытаясь подверстать сюда якобы сложные мысли, которые владели автором, — все это чепуха, конечно. Я могу точно сказать: ушел профессионализм. При этом появляются личности — то ли стихийно, то ли книги читали, то ли дьявол нашептал им в уши, — но они вдруг проявляются как замечательные талантливые мастера. Автор фильма «Питон и сторож» [режиссер Антон Дьяков], например. Я считаю, что это один из лучших фильмов, которые были сделаны за последние два года. Когда я увидел этого человека, я понял, что он абсолютно органичен со своей работой.
— На что живет ваша студия сейчас? Мы не видим на экранах мультфильмов от Норштейна. Знаем, что есть несколько проектов в работе.
— А как думаете, зачем я тут сижу, книжки продаю, разве это мое дело? Зато я ни от кого не завишу.
— Один из ваших проектов, находящихся в продакшене, — «Шинель» — стал творческим долгостроем. Когда мы увидим эту работу?
— Я не отвечаю на этот вопрос.
— А на вопрос, с чего начнется «Шинель»?
— Мне все-таки кажется, что «Шинель» начнется с панорамы гигантского пространства, в недрах которого затерялся маленький Петербург. Ничего кругом, и только одно живое место — город. Нужно создать ощущение бездны, чтобы из нее въехать в этот тлеющий огонек в комнате Акакия Акакиевича.
— В Советском Союзе возможностей снимать было больше?
— Мы работали, студия составляла план на 40 частей в год, это восемь часов мультипликации. И если фильм запускался, никто из нас даже не помышлял о том, что он должен пойти в Госкино и писать челобитную, чтобы ему выдали деньги.
Читайте также:
— Это было золотое время «Союзмультфильма». Расскажите про свою работу с мастерами, создавшими классический фонд русской анимации?
— Не могу сказать, что с Ивановым-Вано у нас сложились особенно теплые дружеские отношения, но он был прекрасным профессионалом, и я уважал его за это. Что касается работы на студии, то мы были воодушевлены общением друг с другом. Это не значит, что на «Союзмультфильме» мы бросались в объятия друг другу. Вообще, я мог бы начать режиссерскую карьеру гораздо раньше. Многое понимал в той области, где другие только копошились и не знали, что происходит. Как ни странно, будучи равнодушным к мультипликации, в которую я попал случайно, я очень много читал книг по кино. Одним из главных учебников был шеститомник Эйзенштейна. Эти книги написаны очень умным человеком и выходят за пределы кинематографа.
— Вы часто используете любимое слово Эйзенштейна — «монтаж», при этом всегда говорите, что не знаете, как закончится фильм. Связаны ли эти вещи?
— Да, я никогда не знаю, как закончится фильм, — это мое постоянное состояние. И не потому, что я такой идиот. Я, конечно, могу придумать, что будет в итоге, но то, что я придумал, никогда не совпадет с тем, что в итоге получится. Картина сама дает мне направление.
— А еще вы часто цитируете стихи, упоминаете литераторов. Какие тексты вам вспоминались, когда вы работали, скажем, над «Сечей при Керженце»?
— Вы знаете, все время ходил и повторял строчку из «Слова о полку Игореве»: «О Русская земля, ты уже за холмом». Вы знаете, это ведь черт знает что за цитата! Там бездна поэзии, в которую я могу зарываться до слез. Никакой плач Ярославны не сравнить с этой коротенькой фразой. Столько в ней печали, столько в ней неизбывности, что все закончится трагедией.
— Юрий Борисович, ваш самый первый фильм, «25-е, первый день», снова скоро выйдет на экраны. Он станет частью картины «2017», которую продюсирует Наталья Мокрицкая. Что вы знаете и скажете об этом проекте?
— Я не знаю, что делает Наташа, мне это будет любопытно, но я боюсь, что из всех этих проектов, готовящихся к столетию революции, может выйти большая дешевка.
Что касается моего первого фильма — мы делали его в 1967–1968 годах, нам тогда здорово дали по шапке, обвиняли в том, что мы использовали не то искусство. Мы ведь взяли авангард и живопись первых лет революции, которая в это время была под прессом. В итоге фильм все равно не получился таким, каким он задумывался внутренне. Конец фильма должен был строиться по живописи Павла Филонова «Гимн городу», но этого не получилось — цензура не допустила. Вот и фильм вышел очень противоречивый, рваный, фрагментарный. В нем было много того, о чем мы не догадывались или не успели прочитать. Мы зарывались в материал, смотрели документы, но этого было все равно недостаточно.
— И поэтому вы редко рассказываете о нем в своих интервью?
— Нет, я не отказываюсь от него. Это очень неприлично, когда автор ретроспективно начинает охаивать себя того. Ты там был, ты любил, так что же ты теперь решил изменить мнение? Глазки прорезались? Поэтому я считаю это неприличным. Это все равно что написать стихи о любви в двадцать лет и переделывать их, когда тебе шестьдесят.
— Вас, автора одного из лучших мультфильмов всех времен и народов, никогда не обвиняли в непрофессионализме?
— Все время. Я уж не знаю, где сейчас те судьи, но это было так. Да, если честно, я и сам не чувствовал себя таким уж матерым профессионалом, который знает ответы на все вопросы.