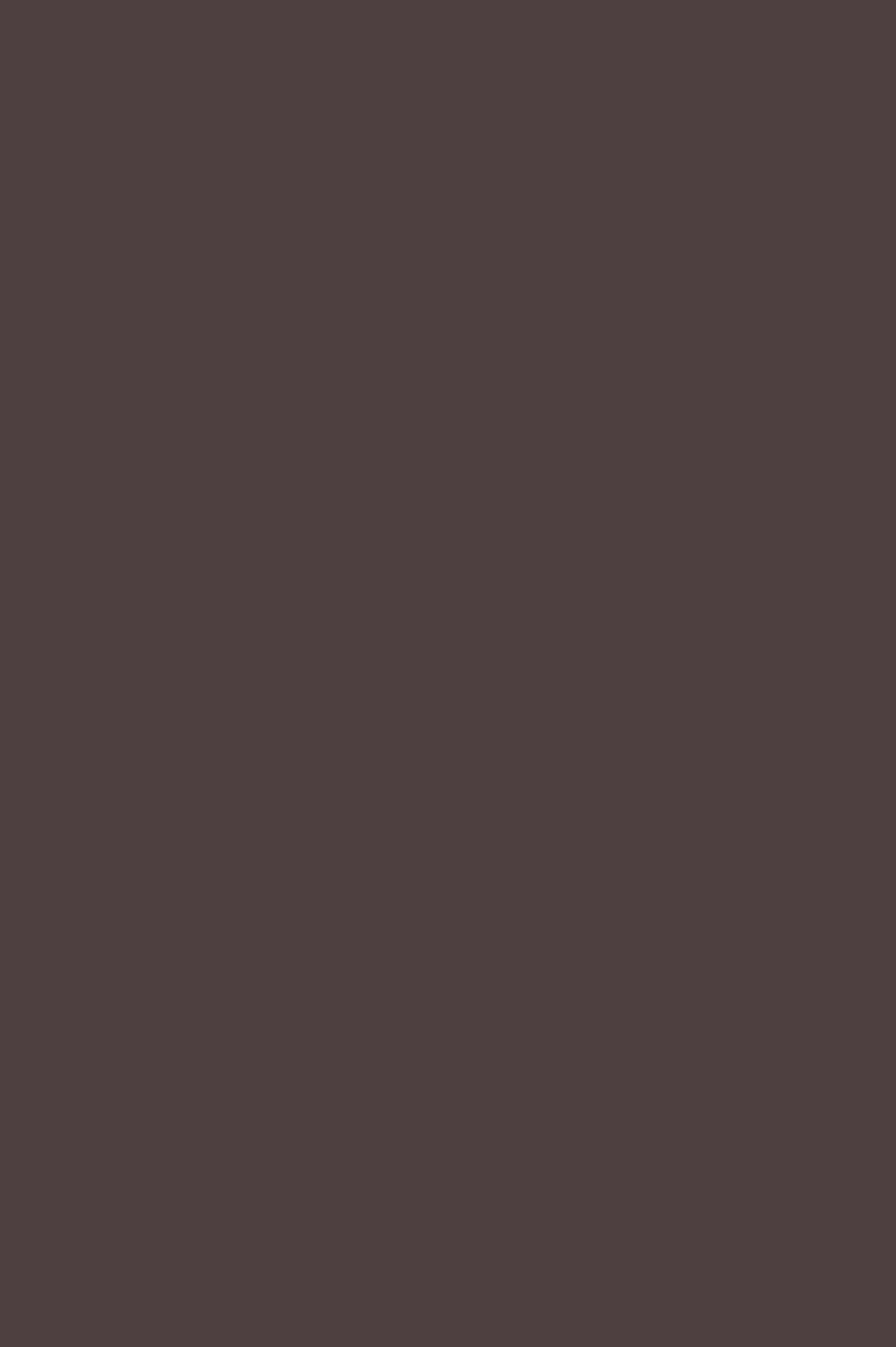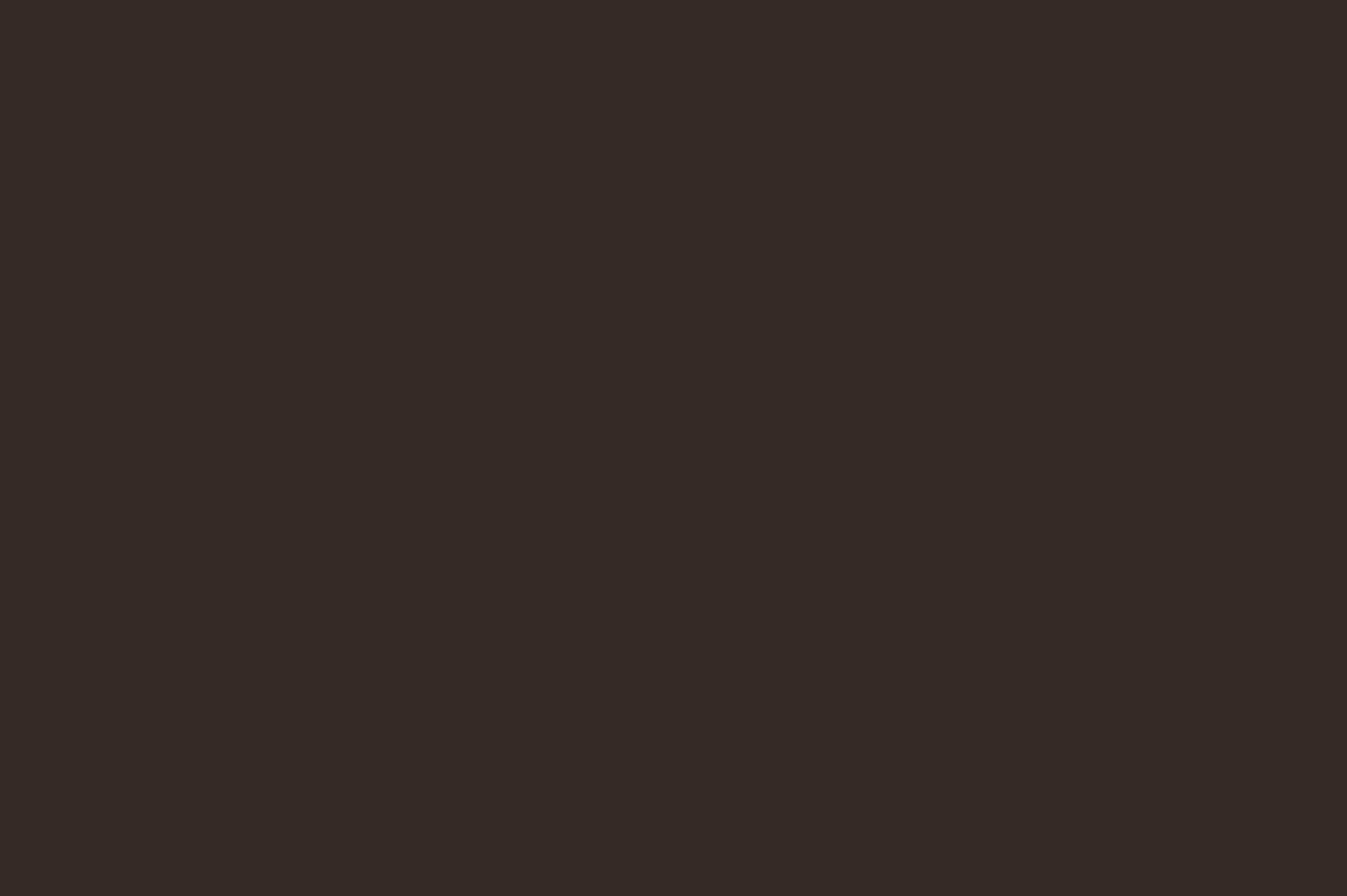Юрий Башмет. «Альтист — это скрипач с темным прошлым»
Юрий Башмет — артист с мировым именем, выдающийся альтист, дирижер и педагог. «Культура.РФ» расспросила его о занятиях музыкой, мотивации, любимых композициях и тонкостях профессии музыканта.
— Юрий Абрамович, расскажите, пожалуйста, когда вы поняли, что хотите посвятить всю жизнь музыке? Например, Петра Чайковского потряс его первый поход в оперу — и тогда он осознал свое призвание. У вас как было?
— У меня было не так. Мама считала, что ребенок должен чем-то увлекаться, и предпринимала много попыток меня чем-то занять: рисованием, спортом и потом почему-то музыкой. Я мог тогда неплохо срисовывать, делал копии каких-то картинок, но представить себе что-то и «из головы» нарисовать я тогда не мог. Вряд ли это мой талант. А в спорте получалось неплохо, особенно в фехтовании. До него я занимался прыжками в воду и водным поло, но именно в фехтовании я застрял, вдохновившись фильмом «Три мушкетера», он тогда только вышел. Сначала мы с ребятами на палках во дворе дурачились, а потом я записался в секцию.
— Одновременно с занятиями музыкой?
— Да, но мама меня уберегла и забрала оттуда. Ей сказали, что рука может стать негибкой: в фехтовании нужно фиксированное положение кисти, а когда держишь смычок, наоборот, положение гибкое. Но в целом фехтовать у меня хорошо получалось, даже юношеский разряд получил.
— Как вы все успевали?
— Да я ходил-то месяца полтора всего (смеется).
— И уже разряд! Но вернемся к музыке. Ваш отец рассказывал, что ваши одноклассники могли учить одну композицию по три часа, а вы со всем за полчаса справлялись и бежали по другим делам.
— Меня до сих пор на конференциях педагоги очень часто спрашивают, сколько ребенку в день надо заниматься. И когда я говорю правду, они остаются в шоке! Потому что я отвечаю: «Как можно меньше!» Всегда учу своих студентов, что количество часов, проведенных за инструментом, не так важно, но ты сам понимаешь, когда тебе его не хватило. Важно — поставить самую маленькую цель и добиться ее. Если это получится через пять минут, можно смело в этот день больше не заниматься. Но я уверен, что всем хочется продолжать, потому что сразу появляется следующая цель.
— И мотивация…
— Да, вот я сам, когда готовился к конкурсу в Киеве (конкурс им. В.И. Ленина, который Юрий Башмет, будучи единственным альтистом среди скрипачей, выиграл. — Прим. ред.). У меня было пять месяцев на подготовку, и где-то через полмесяца я уже не знал, что делать. Вся программа готова, а чем заняться в остальное время? И вот тут, я считаю, интересный поворот случился: формально мне все равно надо было «отстаивать» эти часы, раз я готовлюсь; повторять одно и то же — скучно, а я не люблю, когда скучно: это бесполезная трата времени. И вот тут вдруг стали появляться мысли: «Почему я делаю так? А что, если попробовать по-другому?» Вынужденно играя то же самое, я сам себя начал заинтересовывать идеями интерпретации. В конце концов на конкурсе я уже совершенно свободно импровизировал. И тогда я понял, что импровизация в классической музыке гораздо тоньше и сложнее, чем в любом другом жанре.
— А в джазе? Там же сплошная импровизация.
— Джаз — это потрясающе! Он очень близок к классике, высокий джаз. Но, когда нет границ, свобода может перейти в анархию. Почему Оскар Питерсон (один из самых известных джазовых пианистов. — Прим. ред.) считается в джазе такой глыбой? Это потому, что он очень много думал и много лишнего отсекал, прежде чем у него появилась импровизация. Минимализм в джазе — это, можно сказать, то же, что и интерпретация в классической музыке. А импровизация по простому принципу «куда занесет, а там выкарабкаемся» может вкусно звучать, но от этого люди устают.
— Бывает, что вы прямо на сцене импровизируете? Может ли что-то неожиданное и неотрепетированное родиться прямо на сцене?
— Я считаю такой концерт самым удачным, если получается, как вы сказали. Сейчас поясню: вам нравится вещь, вы на нее копили-копили и наконец купили. Машину. Всё, она ваша! А у музыкантов работа перед сценой — это трамплин для новой импровизации. Если сложатся звезды, настроение, климат, там, я не знаю (смеется), на сцене можно сыграть лучший вариант, чем на репетиции. Со мной такое было раза три всего!
Читайте также:
— Но ведь слушателю, чтобы получить удовольствие от импровизации, нужно знать оригинал, знать, с чем сравнивать? С чего начинать воспитывать вкус, какую музыку включать ребенку с детства — может быть, и не только классическую?
— Искать музыку не нужно, все уже готово! Слушатель давным-давно выбрал «шлягеры» в классике. Какие-то произведения исполняются чаще всех других, так сложилось исторически — и не напрасно. Вот если нас спросят: «Сколько симфоний у Бетховена?» — мы начнем прикидывать: Третья, Пятая, Пасторальная, Седьмая и Девятая — пять, а у него их девять! Сколько у Моцарта? Опять — раз-два-три — тарарам-тарарам-тарара-рам — никто не знает! А их сорок одна! Так что нужно начинать с известных.
Другой момент — как произведение исполняется. Мы тут недавно с Валерой Гергиевым (Валерий Гергиев, дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра. — Прим. ред.) это между собой обсуждали. Всякое бывает. Вот прилетит музыкант из Токио с опозданием в сутки, и у него нет времени адаптироваться. Он должен выползти на сцену, выйти и, главное, не упасть! Если у исполнителя срабатывает автопилот — приехал, сыграл и дальше поехал — в этом есть большая опасность. Ребенка на такое выступление лучше не приводить: он больше не захочет слышать классическую музыку, а вы убьете, может, будущего Шостаковича или Моцарта. В школе, я помню, прямо-таки запал на Чайковского: мне понравилась какая-то мелодия с изменением гармонии. А почему понравилась? Потому что я это уже слышал у The Beatles, моих кумиров. А потом сосед по парте подарил мне винил со Вторым концертом Рахманинова, и после Шестой симфонии Чайковского Рахманинов мне стопроцентно понравился.
— Кажется, Рахманинову, когда Чайковский впервые играл свою Шестую «Патетическую» симфонию, единственному из присутствовавших в зале она понравилась?
— Сейчас трудно об этом говорить, но известен факт, что Пятая Чайковского была абсолютным фурором, а Шестая — провалом. Помню, как-то очень уважаемого мною дирижера, Владимира Ивановича Федосеева (художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского. — Прим. ред.), спросили, какое значение имеет дирижер на премьере. Он сказал: «Огромное! Вот Шестая Чайковского провалилась, потому что дирижировал автор». А Чайковский как дирижер был плох.
— Может, просто не поняли программную вещь?
— Может, но она все равно лучшая из романтической музыки. Это лучший Чайковский и лучшая симфония для меня лично! А есть люди, которые принимают Рахманинова и не любят Чайковского. И я понимаю почему: Рахманинов, несмотря на щемящие гармонии и мелодии, в отличие от Петра Ильича, рубашку на себе не рвет, нет такого вот ощущения «нараспашку». А Чайковский, если трагедия — то в слезы. И внешне Рахманинов такой собранный, есть у него эта интеллигентная дистанция. Я-то в восторге от них обоих!
— А когда уже поздно учиться музыке?
— Никогда не поздно! Вот в нашей «Открытой школе музыки» при Башмет-центре много казусов интересных происходит. Пришел как-то мужчина, а ему было уже за сорок. Прошел год, как он занимается, может, чуть больше. Я захожу в центр, слышу Прелюдию Шопена, думаю, это какой-то музыкант разыгрывается, а это он за роялем. Человек, который не играл никогда в жизни! Вряд ли он станет Рихтером (Святослав Рихтер — известный пианист-виртуоз XX века. — Прим. ред.) и будет гастролировать, но пальцы, руки работают, сольфеджио учит.
— Но все же есть ли сензитив какой-то? Например, иностранные языки лучше начинать учить в возрасте от трех до пяти лет. Это дает большую вероятность, что человек будет знать язык, как родной, а в 30 лет уже с трудом незнакомые слова учатся. В музыке есть такое?
— Это глубокая мысль, потому что тому, кто пропустил часы в детстве и не начал вовремя, надо каким-то образом обходить эти «острые пропущенные углы», но тут могут появиться новые трактовки музыки. На Конкурсе Чайковского был такой француз, всем очень полюбился, потому что не был обременен знаниями. При этом очень талантливый мальчик! Если у него что-то коряво выходило, из-за его таланта это не резало ухо, наоборот — получалось что-то неожиданное. Вот у Рихтера, мы с ним много выступали, были толстые пальцы. В технологии пианизма есть такие аккорды, когда средние пальцы должны попасть между черных клавиш, а его толстый палец туда не пролезал…
— И что же он делал?
— У него появлялась неуклюжесть, да, но и выпуклость каждого «голоса», особенно в Полифонии Баха.
— Вот вы вспомнили про толстые пальцы, и у сразу возник физиологический вопрос. Альт — это инструмент для достаточно взрослого музыканта. Для него нужны большая рука, хорошая растяжка пальцев, потому что лады расположены дальше, чем на скрипке. Раньше сначала учили скрипке, а потом переводили на альт. Сейчас так же?
— Сейчас все по-разному. У нас — до сих пор так. Очень известная немецкая альтистка Табеа Циммерман сразу играла на альте. Не только она, просто Табеа — самая известная. В Китае тоже учат играть сразу на альте. Меня учили по старой схеме: приняли в класс альта, потому что в скрипичном мест уже не было. Но тогда я еще не вырос достаточно, поэтому числился в альтовом классе, а играл на скрипке. Стал чуть постарше, и нужно было уже точно определяться с инструментом. У нас было принято так: плохой скрипач переводится на альт, а я был лидирующим скрипачом.
— Альтист — это скрипач с темным прошлым, говорят.
— Да, скрипачей и на флейту переводили — самый легкий считался инструмент, — или виолончелистов — на контрабасы. А если и там все плохо, то уже в дирижеры! (Смеется.)
— Вот это иерархия!
— Да, а альтист — это скрипач с темным прошлым, правильно, поэтому и возникла в консерватории экспериментальная маленькая кафедра альта. Там мы растим альтистов-суперменов или супергёрлз.
— Такие уже выросли? Видите возможного преемника?
— Да, вижу, но имен называть не буду. Карьера — это личность, всё! Судьба и личность! В детстве мне как-то приснилось, что я приезжаю в свой родной город, я — победитель какого-то конкурса, на собственном автомобиле (как любой мальчик, я всегда мечтал о машине), невероятно красивая золотая осень вокруг, и я какой-то знаменитый-знаменитый, как Гагарин! Герой возвращается в свой город!
— Все ли сбылось из этого сна — и вообще из ваших детских представлений о карьере музыканта?
— Гораздо больше, чем тогда мечталось. Но сны мне уже давно не снятся…
— И музыка не снится?
— Нет, музыка иногда снится. Я несколько раз успевал добежать до рояля и наиграть. А идеи вообще неожиданно приходят. Вот буквально в полусонном состоянии вставляю капсулу в кофе-машину и чувствую: ой-ой-ой, что-то пришло! Так появилось переложение 13-го квартета Шостаковича с сольной партией альта, которое мы много играли.
— То есть, когда не хватает репертуара для альта, вы придумываете его сами?
— Ну, как не хватает… Конечно, мне бы хотелось, чтобы для меня сочиняли Брамс, Чайковский, Бетховен, Моцарт, чтобы Шнитке еще что-нибудь написал — но я не обделен по жизни подарками. Для меня много кто писал, и далеко не всё я еще сыграл. Трудно отставить всё и неделю учить современный концерт. Вот мне прямо сейчас нужно выучить два: один японского композитора для Сочи, другой — российского.
— Как вы все успеваете?
— Сейчас ничего не успеваю! (Смеется.) Но найду время и хоть две странички поучу, составлю впечатление. По российскому концерту оно уже есть, а вот по японскому пока нет, а времени уже мало.
— А сколько у вас времени занимает разучить концерт?
— Это зависит от сложности. Можно потратить очень-очень много времени, а результат не оправдывает сил. У меня есть правило, хоть я ему и не всегда следую: если для меня написано, нужно сыграть! Это произведение может и не войти в репертуар, но сыграть надо все! Как сказал мне когда-то Ростропович, играй все, потому что из каждых десяти концертов два-три будут профессиональные, но может и шедевр подвернуться. Сейчас у меня в репертуаре концерт Шнитке, Софья Губайдулина (российский композитор, автор более 100 симфонических произведений. — Прим. ред.), Александр Чайковский (российский композитор, пианист, профессор Московской консерватории. — Прим. ред.) и Гия Канчели (советский и грузинский композитор, педагог, народный артист СССР. — Прим. ред.), конечно.
— Вы забываете когда-нибудь текст на сцене?
— Да, всю жизнь!
— Это как?
— А я по нотам играю! (Смеется.) Но бывает хуже ситуация — плохое освещение, например.
— А если ноты не перелистнутся случайно?
— Упадут? Если с пианистом играешь, можно подсмотреть! И потом, можно сымпровизировать. Надо себя держать в руках, главное, чтобы стресса не было. Конечно же, если всерьез учишь произведение, ты знаешь его наизусть, с листа не читаешь никогда. Пока сам не почувствуешь себя соавтором, на сцену выходить не стоит. Если я сам не люблю произведение, как же тогда вы его полюбите?
— А следующий вопрос немного филологический. Как ни странно, мы про альт мало сегодня разговаривали: как правильно говорить, на а́льте или на альте́?
— Вот, пожалуйста, сидит мой ученик, первый выпускник моей экспериментальной кафедры в консерватории, первая жертва эксперимента! У него, насколько я знаю, все говорят «на альте́». Но я не первый раз слышу вариант «на а́льте».
— А как вы повстречались со своим альтом XVIII века, на котором до сих пор играете?
— А, вот опять про сны! Мне приснилось на первом курсе консерватории (еще ни конкурсов, ни концертов у меня не было), что я играю концерт на сцене, а впереди сидят две пожилые женщины. Одна другой шепчет: «Какой изумительный итальянский инструмент, какой бархатный звук!» Просыпаюсь в общежитии, иду в буфет, а там рядом ящик «Почта», и в ячейке с моей буквой лежит записка «Срочно позвонить профессору Борисовскому (Вадим Борисовский, исполнитель на альте и виоле д’амур, педагог. — Прим. ред.)». Первый год я у него учился, а когда он умер, меня взял к себе Дружинин (Федор Дружинин, российский альтист, композитор и музыкальный педагог. — Прим. ред.). Борисовский был главный альтист в СССР, все альтисты во всех республиках были его учениками. Так вот, я ему позвонил, и он немного картаво, как всегда, мне сказал: «Пг-г-гиезжай, твой итальяшка тебя ждет». К нему попал этот альт, и из всего своего огромного класса он выбрал меня, первокурсника. Этот инструмент как-то попал в Одессу, там 50 лет пролежал на шкафу, а потом евреи-репатрианты, уезжая в Израиль на ПМЖ, позвонили Борисовскому и продали ему этот альт, так как им дали разрешение на выезд только без ценных вещей. Впрочем, я до сих пор помню звучание того волшебного альта во сне, и ничего похожего на звучание моего инструмента там нет.
— Есть ли произведение, которое вы однажды играли, но потом никогда к нему не возвращались — и больше исполнять никогда не будете?
— Мне кажется, если я снова займусь произведениями, которые когда-то давно играл, я их восстановлю. Вот история. Был такой виолончелист Пабло Казальс. Пока не появился Ростропович, он был главным виолончелистом мира. Мне его вдова рассказывала, что в преклонном уже возрасте Казальс занимался каждый день по два часа и играл сольные сюиты Баха для виолончели. В понедельник — Первую, во вторник — Вторую и так далее. Но сюит всего шесть, а дней-то семь! Так вот, он в субботу и в воскресенье играл самую трудную — Шестую. И так ее «заиграл», что и на концерте не смог ее сыграть, и дома она у него не получалась. Вот у меня такого пока нет, слава богу! А вообще, есть забавная история о том, как Казальс женился на своей последней супруге. Эту байку знают все музыканты! Ему было 80, а ей — 18. И вот после свадьбы Казальс сидит у камина под пледом, курит трубку, к нему подходит его давний друг, такого же возраста, врач, и говорит: «Пабло, мы, конечно, тебе все завидуем белой завистью и поздравляем, но я тебе как врач хочу сказать: это опасно!» А Казальс ему в ответ по-английски: «She dies — she dies» («Умрет — так умрет»). Вот такой у нас, у музыкантов, юмор!
Фотографии предоставлены пресс-службой Башмет-центра.
Автор Мария Пронина.