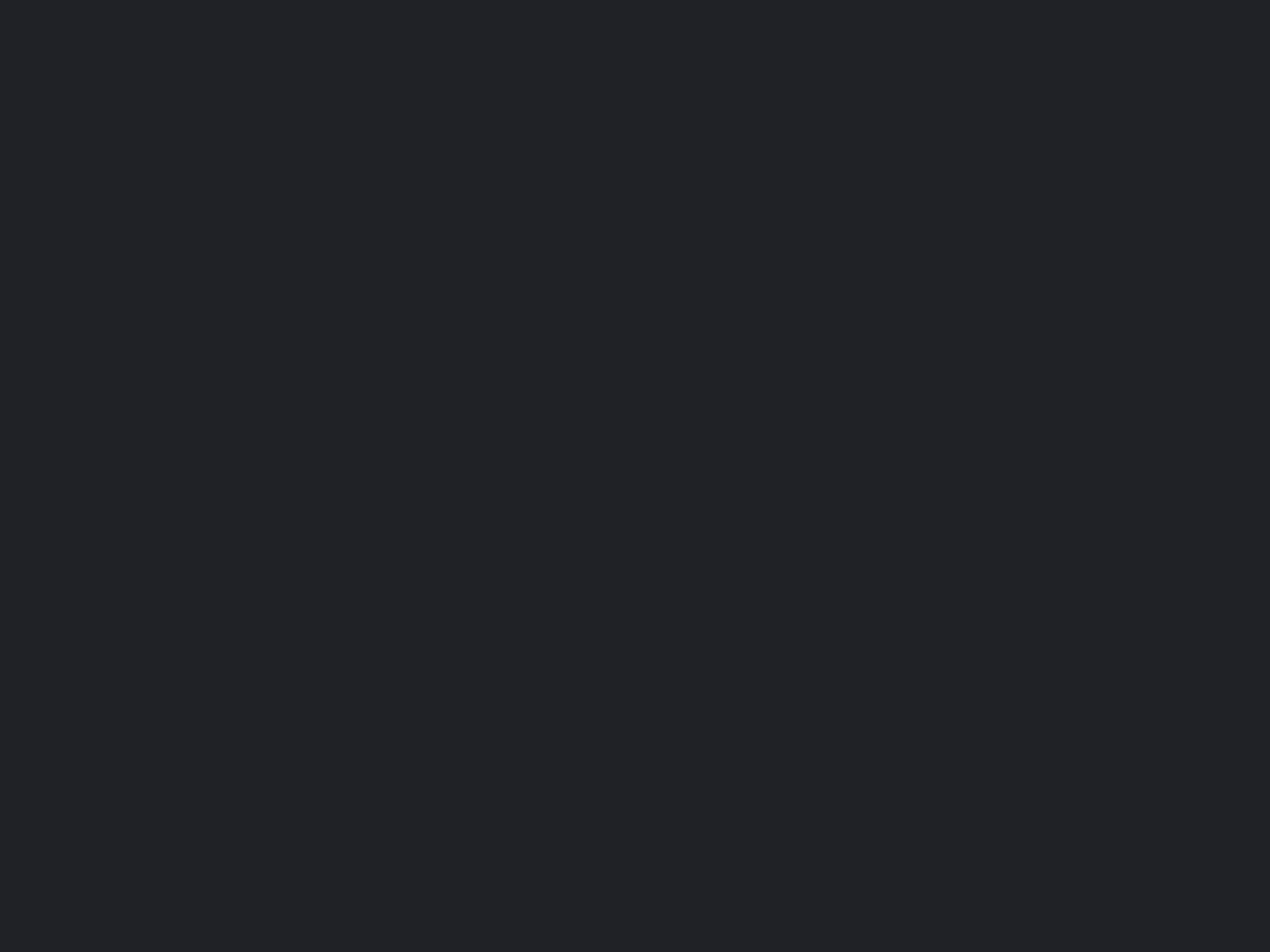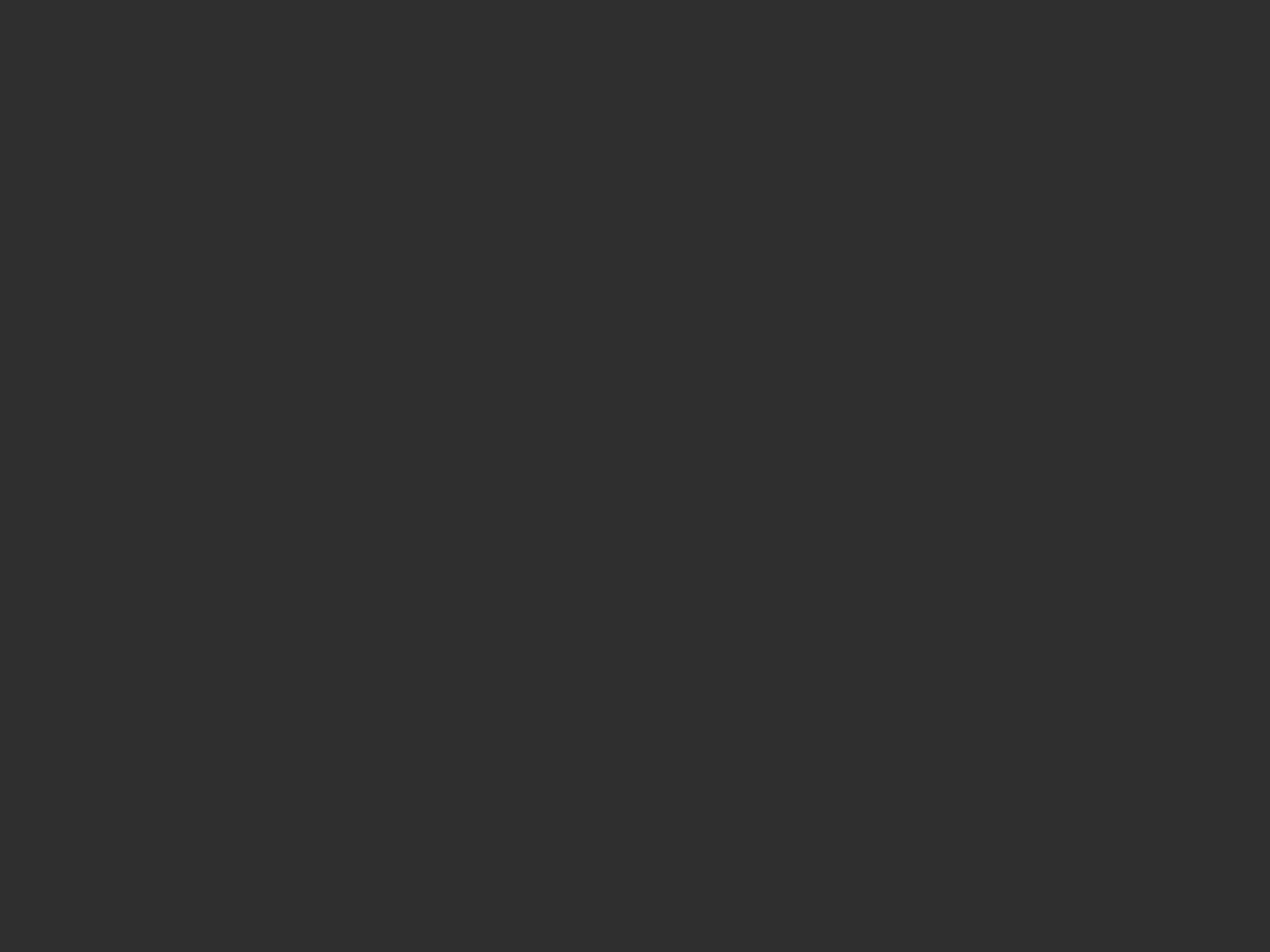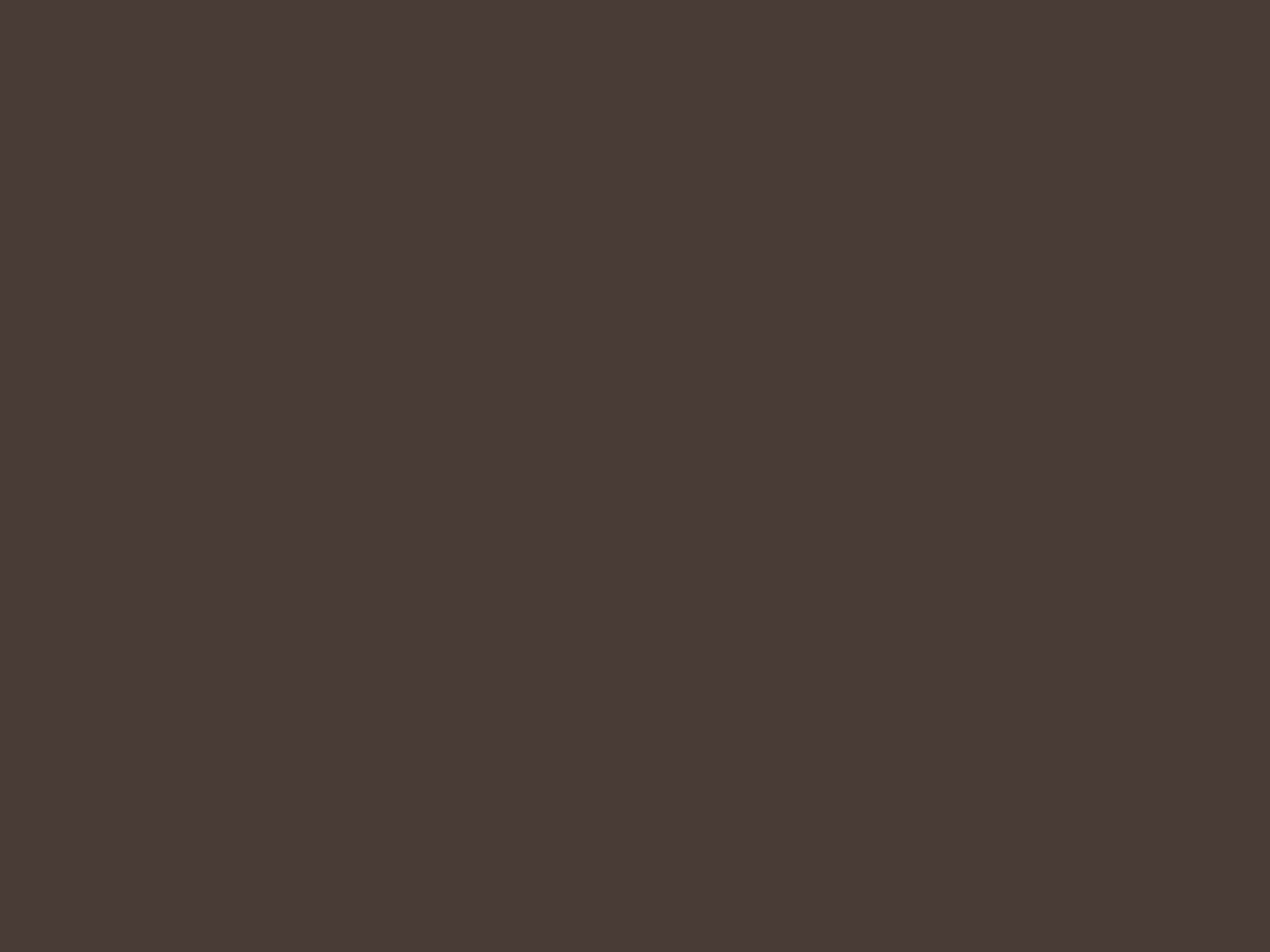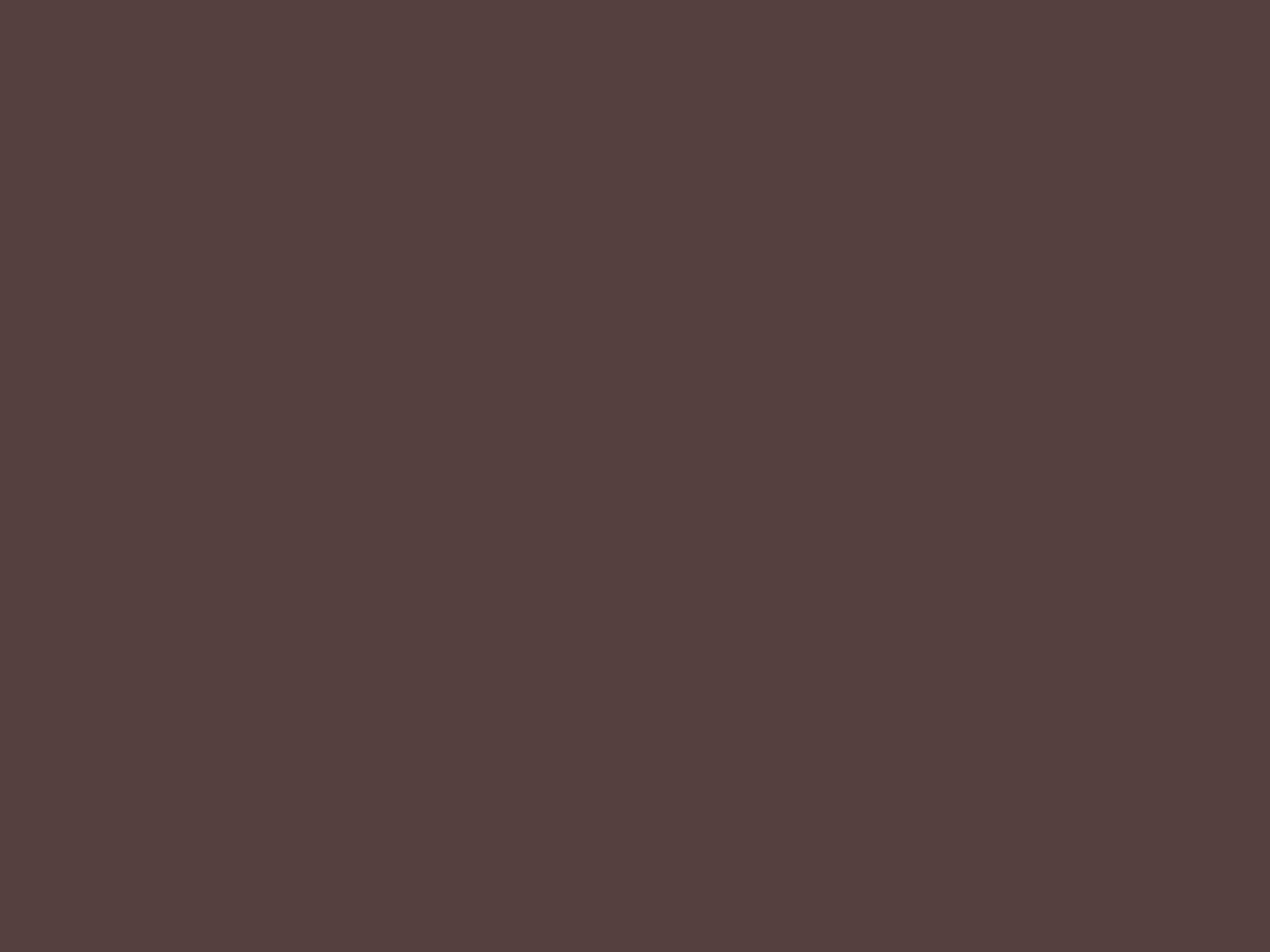«Мы живем на стыке жанров: между трагедией и комедией»
Номинант премии «Золотая маска» главный режиссер Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина Олег Рыбкин рассказал порталу «Культура.РФ» о том, как он придумывает для себя загадки, почему названия спектаклей ни о чем не говорят и когда сомнение — нормальное свойство человека.
— В декабре вы выпустили премьеру спектакля «Опасные связи» по роману Шодерло де Лакло, написанному в XVIII веке. Его герои, маркиза де Мертей и виконт де Вальмон, манипулируют людьми, играя чужими жизнями. Почему вы выбрали этот текст?
— Все знают это произведение, на его сюжет сняты прекрасные фильмы. Но что-то вдруг произошло, и мне показалось, что темы, затронутые Шодерло де Лакло, активно присутствуют в нашей жизни, что «Опасные связи» не утратили своей актуальности. Меня сейчас почему-то очень тревожит история о молодых людях, которых используют и ломают им жизнь. Похожая тема возникает в спектакле «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Там главные герои — игрушки в руках судьбы и сильных мира сего. В «Опасных связях» юные Сесиль и шевалье Дансени, испытавшие первое чувство, — тоже игрушки в чужих руках. А еще меня привлекла тема игры, которая пронизывает эту историю.
— В экранизациях «Опасных связей» режиссеры не раз переносили действие в современность. Почему у вас практически голливудская постановка?
— Нужно смотреть спектакль, он не такой голливудский, как кажется на фотографиях. Хотя у нас потрясающие костюмы художника Фагили Сельской и роскошный золотой занавес, летающий туда-сюда. Стиль жизни XVIII века предполагал зрелищность, игру, театрализацию жизни. Мы дополняем его игрой со стилями и жанрами, иронией по поводу всей этой роскоши и приемом «театр в театре»: на сцене гримировальные столики, артисты входят, гримируются и начинают играть. Спектакль набирает обороты, в какой-то момент артисты «заигрываются»: непонятно, кто находится в образе, а кто идет от себя. Театр постепенно расширяется до размеров реальности, поглощает ее. И в финале звучат слова маркизы де Мертей: «Давайте продолжим игру».
— С Красноярским театром имени Пушкина связана и ваша первая премьера — дипломный спектакль «Свадьба Кречинского», и первая профессиональная обида — вас не пригласили на премьеру, хотя спектакль долго шел с аншлагами. Что побудило вас вернуться в этот театр, стать его главным режиссером?
— Я работаю в этом театре уже двенадцать лет. После первого «наезда» в Красноярский театр и дипломного спектакля прошло немало времени… В 2005 году я поставил здесь спектакль «Таланты и поклонники», который пользовался огромным успехом. С ним театр был приглашен на фестиваль «Островский в доме Островского» в Малый театр. После этого мне предложили стать главным режиссером. У меня осталось в Красноярске много друзей и знакомых, и я не чувствовал себя чужим. Мне всегда нравилась красноярская труппа — очень сильная и профессионально крепкая. Молодая и во многом средняя ее часть сформированы уже при мне: я принимал этих артистов в театр. Начиная работу, не знаешь, на какой срок подписываешь контракт. Сначала на три года, потом еще на три… Потом понимаешь, что, может быть, это и есть тот театр, который что-то дает тебе, а ты ему. Буквально на следующий год после моего прихода сюда был создан фестиваль «Драма. Новый код», на котором читали провокационные на тот момент пьесы. Мы проводим его до сих пор, но в другом формате. В тот момент это было нечто неожиданное и привлекательное для Красноярска, и не только для него. Мне кажется, благодаря «ДНК» артисты получили прививку нового драматургического языка, новой театральной эстетики. Меня очень порадовало, что подавляющее большинство артистов с радостью восприняли эстетику современного театра.
— Теперь фестиваль называется «ДНК-Rезиденция». Что происходит в его рамках?
— Слово «резиденция» означает постоянное присутствие. Например, появляется пьеса, которую нам хочется прочесть, мы собираем желающих, артисты ее читают, и проходит обсуждение. Так, прочитав пьесу «Человек из Подольска», мы поняли, что ее надо ставить, и одни из первых в России поставили. Надеюсь, в этом году тоже будет что-то подобное. Устраивать сейчас полноформатный фестиваль нет смысла: все пьесы доступны в интернете. Кроме того, возникли сложности из-за закона о нецензурной лексике. Например, пришлось снять спектакль «Лейтенант с Инишмора», поставленный мной для «ДНК», потому что он попал под действие этого закона.
Читайте также:
— Репертуар вашей Основной сцены напоминает репертуар Малого театра в Москве, афиша Камерной сцены и Малого зала — экспериментальную площадку. Как найти баланс между этими двумя направлениями?
— Названия спектаклей ни о чем не говорят. Особенно если знать, что «Чайка», в свое время вызвавшая яростное осуждение, и «Варвары» Горького поставлены у нас совсем не так, как в Малом театре. Хотя, выпуская спектакль на Большой сцене, мы понимаем, что в Красноярске не так много публики, способной воспринять радикальные режиссерские поиски, как в Москве или Петербурге. Поэтому приходится думать о каком-то балансе. Глупо не замечать, что есть зрители, которые ходят на комедии Рэя Куни или на «Примадонн». Они хотят с удовольствием провести вечер и вправе смотреть то, что им хочется. Крупнейший репертуарный театр, такой как Театр имени Пушкина, при миллионном городе и отсутствии альтернативы, не может позволить себе роскоши авторского театра. Не думаю, что это возможно где-нибудь, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому в репертуаре театра совмещается разнообразная драматургия и режиссерские стили.
Есть спектакли, которые предпочтительнее играть на Малой сцене. Например, «Человека из Подольска» или «Иллюзии» Ивана Вырыпаева; «Путешествие Алисы в Швейцарию» — пьеса, которая редко ставилась в России, поскольку ее основная тема — эвтаназия и много и очень откровенно говорится о смерти. Хотя на Большой сцене тоже идут непростые для восприятия спектакли. «Дядя Ваня» Анатолия Ледуховского, «Преступление и наказание» Александра Огарева, «Я.ДРУГОЙ.ТАКОЙ.СТРАНЫ.» Дмитрия Егорова, мой спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» — технологически и визуально сложно выстроенные спектакли, которые требуют от зрителей серьезных интеллектуальных усилий.
— Почему вам интереснее ставить не просто современную драматургию, а пьесы, которые только что написаны или переведены, как в недавней премьере «Три дня в деревне»?
— В 1990-е годы желание ставить такие пьесы было связано у меня с прорывом к другой драматургии, разрушением идеологических и культурных барьеров. Возникло культуртрегерское желание делать что-то совершенно неведомое, создать необычный театральный язык. Это было время открытия русского авангарда и новых имен европейской и мировой драматургии. Режиссеры открывали Введенского, Хармса, Хлебникова.
— А вы — «Время и комнату» современного немецкого драматурга Бото Штрауса?
— Первым в России, да. Для меня эта постановка была вызовом. Там что-то совершенно невиданное для того времени — драматургическое письмо с перепутавшимися временами, композиция, которую должен разгадать зритель, при этом очень эмоционально и чувственно написанные диалоги. Никто никогда драматургии Бото Штрауса в России больше не ставил — похоже, что я ее единственный постановщик. Равно как и пьесы «Президентши» Вернера Шваба.
У меня уже нет острого желания первым поставить что-то написанное или переведенное только сейчас. Хотя я периодически читаю разные зарубежные и отечественные тексты. Наверное, во мне что-то изменилось: новизна пьесы уже не критерий для ее выбора. «Месяц в деревне» Тургенева я давно хотел поставить, это очень длинная пьеса — ее всегда сокращают. Оказалось, что у Патрика Марбера есть пьеса «Три дня в деревне» по мотивам «Месяца в деревне». Зная его как прекрасного драматурга, я решил ее найти и предложил перевести. Когда Ольга Варшавер с Татьяной Тульчинской прислали мне первый фрагмент — понял: да, это надо делать. По лицензионному соглашению только у нас есть право показывать «Три дня в деревне» в России в течение года. Но я уверен, что потом эту пьесу еще будут ставить.
— Вы репетировали «Время и комнату» Бото Штрауса в московском «Современнике», но премьера не состоялась. Она вышла в Новосибирске, и спектакль собрал немало призов. В Сибири, да и вообще в провинции, более открыты для новых идей?
— На самом деле тогда была одна театральная ситуация, сегодня другая. Это несравнимо. Думаю, сегодня это не было бы проблемой. Хотя… Как говорил Петр Наумович Фоменко: хотя… И делал паузу… Сейчас у театра новые опасности и консерватизм тоже никуда не исчез.
— Вы ученик Фоменко, ваши однокурсники — ведущие актеры его «Мастерской». Какие уроки Петра Наумовича запомнились вам навсегда?
— Я всегда боялся быть неуверенным, сомневаться в чем-то, начиная новую работу. А для него это было нормально. Я все больше понимаю, как он был прав. Сомнение — нормальное свойство человека, занимающегося творчеством, который вступает на новую территорию. Только об этом никто не должен знать.
— Почему вы часто даете заглавные роли молодым артистам, фактически со студенческой скамьи?
— Если бы меня спросили, что хорошего я сделал для театра, я бы ответил, что с первого спектакля, когда взял в «Таланты и поклонники» на роль Негиной совсем молодую артистку и студентку-дипломницу, я продолжаю давать большие роли молодым артистам. Мы сейчас очень редко берем кого-то, у нас большая труппа. Но если все-таки берем, я считаю, что молодой актер должен сразу испытать стресс и страх большой роли.
— Не обидно, когда кто-то из них, подучившись, уезжает в Москву или уходит в другие театры?
— Не обидно, когда кто-то из них, подучившись, уезжает в Москву или уходит в другие театры?
— Конечно, обидно, когда мы теряем человека, которому помогли профессионально состояться. Но это происходит все реже и реже. Это жизнь: никто же не подписывал контракта о верности. И в этом смысле театры совсем не защищены. Если артист в середине сезона уходит, поставив театр в сложное положение, административно ничего нельзя сделать… Потом кого-то приходится принимать обратно. Это непопулярное решение, но я понимаю, что человек может ошибиться, его могут обмануть. Но возвращаю только один раз.
— Смотришь ваш спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», номинированный в этом году на «Золотую маску», — и физически ощущаешь растерянность и смятение главных героев — молодых людей, попавших в выморочный мир. Это метафора сегодняшнего существования?
— На «Золотой маске» в Москве «Розенкранца и Гильденстерна» будут играть в театре «Новая опера», на ее огромной сцене. То есть герои будут находиться в космосе этой сцены под светом сотен прожекторов. Я думаю, что растерянность этих молодых людей перед лицом неведомых, но угрожающих сил — это всеобщая растерянность людей думающих. Для меня они оба — Гамлет, а не тот, кто под этим именем появляется на сцене. Это такой перевертыш Стоппарда.
— Сюжет этого спектакля, как и многих ваших постановок, не перескажешь в нескольких фразах. В них возникают странные персонажи, зрителей в каждом акте приводят в новое пространство. Вам нравится загадывать публике интеллектуальные ребусы?
— Мне нравится, когда их отгадывают. Во всех моих спектаклях заложена какая-то игра со смыслами, с культурным контекстом. Если кто-то ее замечает и мне об этом говорит, мне приятно. Но я придумываю эту игру исключительно для себя: она доставляет мне тайную внутреннюю радость. Это игра для своих, для профессионалов, которые смогут и/или захотят это считывать. Не говоря уже о зрителе, который приходит в театр вне всякого контекста и в пьесе «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» вдруг впервые открывает для себя пьесу «Гамлет».
— Раньше вы часто ставили спектакли как приглашенный режиссер. Нет желания сделать что-то на стороне?
— Отвечу коротко: Нет. Пока не хочу.
— Какие спектакли казались вам интересными, когда вы работали в жюри фестиваля «Золотая маска»?
— Все спектакли были интересны и достойны фестивальной афиши. А по результатам могу сказать, что, понимая, что число призов ограничено, не видел спектакля, который был бы достоин «Золотой маски» и не был бы отмечен жюри.
— Как вы относитесь к постановкам, которые сделаны на стыке жанров, которые еще лет двадцать назад не считались театром?
— Мы живем сейчас на стыке жанров: между трагедией и комедией в вихре информационного потока. Это и есть жанр — наша сегодняшняя жизнь. Совершенно очевидно, что интерес к формам театра, основанный на условии все большей вовлеченности зрителя в процесс создания собственного спектакля, будет все увеличиваться. Но и внутри, скажем так, традиционного, линейного театрального представления происходят изменения правил игры со зрителем. Поэтому я всегда в затруднении, я не знаю, как определить жанр своих спектаклей.
— Что вам сейчас нравится в современном театре — и как зрителю, и как режиссеру? Что бы вы рекомендовали посмотреть?
— Знаете, появляются новые режиссерские имена, радует многообразие поисков на необычных театральных пространствах. Но… в последнее время у меня не было того абсолютного ощущения счастья, которое возникало, например, от спектаклей Някрошюса.
— В каком направлении сейчас развивается современный театр?
— Театр развивается свободно. Это его природа. Нет и не может быть никакого генерального направления его развития, этического или эстетического диктата. Все зависит от идеи и лидера, который эту идею воплощает. Так всегда было и так будет.
Фотографии предоставлены пресс-службой Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина.
Беседовала Ольга Романцова